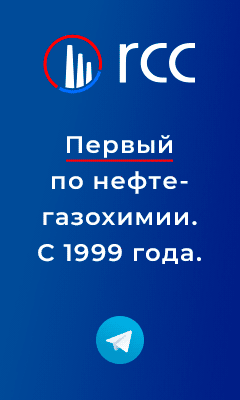Прежде всего, следует определиться с терминами, допуская, что под импортозамещением подразумевается сокращение зарубежных товарных интервенций путем развития отечественного производства и рыночного вытеснения импортной продукции российскими аналогами. Однако из отечественных субстанций предприятиями фармотрасли выпускается не более 10% медикаментов от общего объема их производства. Получается, что за небольшим исключением даже исконно российские производители не выпускают полностью отечественных препаратов. По сути, они не отличаются от западных фармпроизводителей, занятых в России в основном фасовочно-упаковочными функциями на вновь возведенных, либо арендуемых производственных мощностях. Если выпускаемые ими медикаменты импортные (каковыми они собственно и являются по своей принадлежности и юридическим канонам), то в каком качестве следует рассматривать продукцию ряда крупных отечественных заводов, также расположенных в России, но в настоящее время полностью принадлежащих иностранному фармацевтическому концерну?
Если же продукция иностранных собственников в России – российская, тогда вообще отпадает всякий смысл в импортозамещении, поскольку медикаменты, выпускаемые западными фармпроизводителями на российской территории, будут автоматически причислены к отечественным лекарственным средствам. Если же не отождествлять владельцев фармацевтического предприятия с территориальным месторасположением, то как тогда рассматривать ввозимую из-за рубежа продукцию российских собственников, которые в силу разных обстоятельств разместили производство своих лекарственных препаратов вне России либо выкупили акции иностранных фармкомпаний? В принципе, по таким схемам и работают цивилизованные рынки, выпуская фармпродукцию там, где это на данный момент выгоднее и целесообразнее.
Если отвлечься от политической подоплеки, то не совсем понятной представляется актуальность проблемы импортозамещения. На сегодняшний день ни одна страна мира не может полностью обеспечить себя лекарствами за счет внутреннего производства. Даже в Германии доля медикаментов от немецких изготовителей не превышает 40%, а доля собственных лекарственных средств в Австралии составляет одну треть национального рынка. Однако неустойчивость российской экономики не позволяет, в отличие от развитых стран, недооценивать важность реального производства, поскольку зависимость от импорта при форс-мажорной девальвации рубля может обернуться крахом всего фармрынка. К тому же фармацевтическая отрасль всегда была объектом пристального внимания властных структур, так как население болезненно реагирует на любые колебания на рынке.
Если в российском бюджете и найдутся средства на модернизацию фармпроизводства, то они, прежде всего, будут направлены государственным предприятиям. Как известно, в настоящее время на долю государственного сектора приходится не более 3% от общего числа фармпредприятий, которые выпускают около 20% медикаментов от их общего объема производства. То есть основное количество медикаментов производят уже частные структуры, для которых импортозамещение является одним из технологических приемов, направленных на процветание их бизнеса. Причем многие из них уже успешно освоили массовое копирование зарубежных дженериков, и нет особого смысла составлять им конкуренцию и осложнять без того непростое существование российских заводов. Пусть они и дальше внедряют импортозамещающие технологии и насыщают внутренний рынок современными эффективными медикаментами. Лишь бы только импортозамещением не прикрывались при производстве контрафактной продукции, а работали бы с соблюдением патентного законодательства.
Судя по всему, при сложившейся расстановке сил финансовые вложения больше всего необходимы только госсектору рынка, да и то исключительно для производства собственных современных субстанций, чтобы замкнуть производственный цикл хотя бы стратегически важных медикаментов внутри страны. А всех остальных производителей было бы целесообразнее поддерживать с позиций экономического прагматизма.
Российские фармпроизводители по большей части нуждаются в технологической реструктуризации и модернизации производства, то есть в первую очередь в современном оборудовании, которое они могут арендовать или получить по лизинговым схемам, прецеденты чего уже имеются. А дефицит последующего оборотного капитала вполне уместно удовлетворить за счет кредитования, но при условии разумного снижения ставки рефинансирования, что и станет не голословным, а вполне реальным вкладом государства в поддержку отечественного производителя.
Необходимо отметить, что протекционизм со стороны властных структур не должен ограничиваться рамками импортозамещающих программ. И не в последнюю очередь из-за высокозатратных схем по их реализации, так как выпуск современных медикаментов предусматривает наличие дорогостоящего технологического оборудования и субстанций, отчего, естественно, производимое лекарство дешевым не становится. Иными словами, особого ценового преимущества при выпуске российскими заводами современных дженериков быть не может.
Кроме того, помимо импортозамещения, существуют и иные не менее важные стратегические приоритеты развития рынка. Подавляющее большинство отечественных производителей вкладываются в основном в конъюнктурное производство дженериков и тем самым отбрасывают себя назад, обрекая фармпромышленность на хроническое отставание. Российской фарминдустрии не нужно изобретать велотренажер, а лучше всего воспользоваться положительным опытом других стран и начать собственные научные разработки.
Повальный перевод всех заводов на выпуск GMP-соответствующей продукции (good manufacturing practice – качественная производственная практика), если в обозримом будущем это все-таки случится, несомненно, поможет воспроизведению хорошо себя зарекомендовавших лекарственных средств. Однако мировое лидерство достигается технологическим прорывом, который впоследствии станет уже рутинной процедурой по изготовлению дженериков в разных странах, но по единому стандарту, установленному компанией-производителем, то есть держателем конкретного патента. Массовый выпуск даже нескольких препаратов нового типа может принципиально изменить приоритеты размещения инвестиционных ресурсов или, во всяком случае, помочь преодолеть настороженное отношение инвесторов к фармрынку. Поэтому более чем опрометчиво не воспользоваться потенциалом отечественных разработок, учитывая, что существующие заделы в области биотехнологии позволяют при благоприятных обстоятельствах значительно уменьшить отставание по ряду перспективных направлений. При своевременных и хотя бы точечных инвестициях из бюджета или венчурных фондов, а также при первоначальном и по возможности гарантированном сбыте в виде госзаказов вполне допустимо выйти хотя бы по отдельным позициям на уровень мировой фарминдустрии.