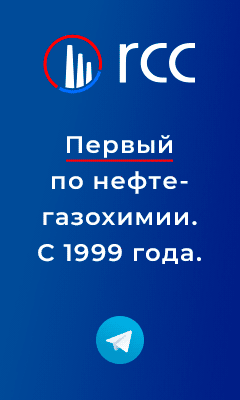Замминистра энергетики Дмитрий Исламов рассказал в интервью ТАСС, почему Россия продолжает развивать угольную отрасль, несмотря на глобальный тренд на "зеленую" энергетику, как санкции и логистические проблемы повлияли на отрасль, какие антикризисные меры уже приняты и почему Китай остается ключевым рынком для российского угля
— Дмитрий Викторович, последние лет 10 довольно часто звучит тезис о том, что нужно отказываться от угля и переходить на более чистые источники энергии. Почему сейчас правительство РФ так много внимания уделяет развитию и поддержке этой отрасли?
— Угольная отрасль остается одной из основных отраслей топливно-энергетического комплекса и занимает законное место в топливно-энергетическом балансе. Конечно, сейчас ее доля снижается, но она продолжает занимать треть всего энергетического баланса мира. В абсолютном выражении до 2050 года спрос на уголь в мире либо будет сохранен, либо немного вырастет. Что касается нашей страны, то уголь является одним из основных источников энергетики в России и занимает 15% долю в выработке электроэнергии и 22% тепла.
— В последние несколько месяцев мы много слышали про масштабную программу поддержки угольной отрасли в России. Насколько необходимы были принятые меры, в чем особенность нового кризиса?
— Угольные кризисы были всегда, но в этот раз ситуация имеет свои особенности из-за наложения ряда факторов: низких мировых цен, санкций, которые существенно удлинили логистические маршруты, а также укрепления рубля — с его учетом с начала года стоимость угля упала почти в два раза. На все это наложились внутренние причины: ограничение пропускной способности Восточного полигона, рост логистических затрат.
В итоге в прошлом году угольная отрасль стала единственной крупной убыточной отраслью в России. Убытки составили 112 млрд рублей, кредиторская задолженность — 1,2 трлн рублей, а доля убыточных предприятий — 53%.
— В этом году ситуация, как я понял, усугубилась...
— Да. Только за первый квартал убытки угольщиков составили 79,9 млрд рублей, а доля убыточных предприятий выросла с 53% до 62%, продолжила расти и кредиторская задолженность.
Без мер, которые мы приняли, убытки угольных компаний могли достичь в этом году 300–350 млрд рублей, а кредиторская задолженность — 1,5 трлн.
Как правительство выводит угольную отрасль из кризиса
— Как сильно меры поддержки могут сгладить негативный тренд, о котором вы говорили?
— Угольщики получили ряд системных мер: отсрочку по налоговым сборам с 1 июня по 1 декабря, если будет необходимо, то решение по отдельным компаниям может быть принято и на более длительный срок; скидку к тарифу в западном направлении; реструктуризацию кредиторской задолженности с банками. Центральный Банк уже выпустил специальное письмо, где дал сигнал банкам, что такая реструктуризация возможна с более мягкими требованиями без увеличения резервирования. С учетом кредиторской задолженности в 1,2 трлн это очень серьезная поддержка.
Также идет работа с Минтрансом и РЖД по сокращению времени движения составов в пути и снижению стоимости аренды вагонов. Мы продолжаем работать и с нашими портами по существенному снижению стоимости перевалки в портах.
Между правительством Кузбасса и РЖД заключено соглашение по гарантированному вывозу 54,1 млн т угля в восточном направлении. Принято аналогичное решение и по Хакасии по заключению соглашений, но уже с отдельными предприятиями, по вывозу угля на восток.
Кроме общесистемных мер, оказываются и адресные. Подкомиссия под руководством главы Минфина Антона Силуанова рассмотрела помощь для 4 компаний, а это больше 20 предприятий: "Мечел-Майнинг" (10 предприятий), "Воркутауголь" (5 предприятий), компания "СУПК", "СДС-Уголь" (5 предприятий). По трем компаниям решение принято, по "СДС-Углю" еще будет идти обсуждение.
Комиссия также может для отдельных компаний принять решение по компенсации логистических издержек.
— Какое количество компаний могут получить адресную помощь?
— По 20 предприятиям адресная помощь рассматривается, еще порядка 20 предприятий уже подали документы на подкомиссию, и около 30 компаний подадут в ближайшее время документы. В итоге мы сможем охватить 73 угледобывающих предприятия.
— Как вы оцениваете общий объем поддержки?
— Это миллиарды рублей. Точную сумму я пока вам сказать не могу, так как еще рано подводить даже промежуточные итоги. По результатам первого полугодия мы подведем результаты работы отрасли и антикризисной программы и в середине июля уже сможем сделать анализ за полугодие.
— На какой срок выделяется помощь?
— Длительность поддержки разная. Решение принимается непосредственно подкомиссией: это может быть полгода, может быть год. Пока что наша задача — помочь отрасли продержаться, а дальше негативные факторы будут сходить на нет: после рецессии мы ждем подъем.
— Какая судьба ждала бы угольную отрасль без этих экстренных мер поддержки? Увидели бы мы разорение компаний, снижение рабочих мест?
— У нас яркий показатель — это так называемая красная зона. В нее мы выделяем те предприятия, которые находятся в предбанкротном или банкротном состоянии. Если на начало года в этой зоне было 27 предприятий, то сейчас — 51, из них 18 уже приостановили добычу.
Что такое 51 предприятие в красной зоне? Это 32,6 тыс. человек, это 65 млн т добычи — 15% добычи России. Поэтому без мер поддержки мы могли бы лишиться как минимум 15% от нашей добычи, всех этих 65 млн т.
— Я правильно понимаю, что меры поддержки позволяют нам сохранить уровни добычи и рабочие места?
— Конечно. Мы сохраним занятость и социальную стабильность в угледобывающих регионах.
— По этому году какой прогноз по добыче угля?
— В прошлом году добыча составила 438 млн т, на 5 млн т меньше 2022 года. За пять месяцев этого года добыча продолжила снижаться примерно на 1 млн т год к году. Но если посмотреть по регионам, то Кузбасс за эти пять месяцев сократил добычу уже на 5 млн т, а дальневосточные регионы, в основном Якутия, увеличили добычу.
— Если у нас идет снижение добычи, то как мы достигнем 600 млн т, которые заложены в энергостратегии?
— Это произойдет в том числе за счет внутреннего потребления, так как при сохранении доли угля в энергобалансе страны объемы его потребления вырастут. Что касается экспорта, он тоже будет увеличиваться и составит 350 млн т в год к 2050 году. В прошлом году он находился на уровне 195–200 млн т.
— А в этом году?
— За пять месяцев этого года вывоз угля на экспорт по инфраструктуре РЖД снизился на 1,5 млн т, а отдельно по восточному направлению вырос на 0,9 млн т. У нас очень сильно снизились поставки в северо-западном направлении. На юге же он подрос по сравнению с прошлым годом. При этом с учетом роста вывоза из Якутии экспорт соответствует прошлому году, мы фиксируем незначительный рост на 0,5%.
В целом же наша задача сейчас максимально поддержать угольную отрасль, сохранить объемы добычи, а затем уже выйти на стратегические задачи, заложенные в энергостратегии.
Сроки этого перехода зависят и от самой отрасли, которая сейчас сама борется с кризисом, реализует внутри себя масштабную программу изменений, оптимизирует расходы, улучшает технологии, повышает производительность труда, ограничивает выплату дивидендов. Где-то угольная отрасль будет консолидироваться и небольшие компании станут присоединяться к более сильным, где-то будет происходить сокращение неэффективных мощностей. При этом сильные эффективные предприятия должны развиваться.
— Как вы считаете, в следующем году кризис будет преодолен?
— Мы уверены в этом. В следующем году уже ждем роста производственных показателей.
Как стать номером один в Китае?
— Какие направления поставок показывают наибольшую маржинальность?
— Она пока отрицательная по всем направлениям. И на востоке, и на северо-западе, и на юге. Если в среднем брать по году, то восток — более выгодное направление.
— То есть мы по-прежнему идем на восток?
— Да.
— Довольно странно везти весь уголь на восток, учитывая возможности наших южных и западных портов...
— Вы не совсем правильно меня поняли. Нам нужны все направления — восточное, северо-западное и южное. Но основные рынки — это все-таки страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай и Индия, страны с самым большим народонаселением. Третий регион по потенциалу — Африка, где в ближайшие десятилетия будет жить более 1 млрд человек.
— В каком регионе вы видите максимальный потенциал?
— Конечно же, это Китай. В части металлургического угля мы видим большие перспективы в Индии с учетом их планов по наращиванию выплавки стали.
— Но он развивает и свою добычу, переходит на другие источники энергии.
— Но при этом КНР каждый год наращивает импорт, и он заинтересован в импорте нашего угля. Сейчас мы занимаем на его рынке около 25% по прошлому году. Наша задача — занимать лидирующие позиции и выйти на треть рынка.
— Хорошая перспектива. А сколько мы сейчас им поставляем?
— По прошлому году было около 100 млн т, в этом году мы намерены сохранить объемы, чтобы в следующем году перейти к росту. В 2026 году мы в принципе должны нарастить экспорт по всем нашим основным рынкам. В целом в мире Россия занимает третье место по экспорту после Австралии и Индонезии.
— Продолжаются ли переговоры по импортным пошлинам?
— Этот вопрос стоит на повестке, мы его обсуждаем. Пока решение не принято.
— Относительно недавно Минэнерго сообщало об интересе Китая к расширению сотрудничества в угольной отрасли. О каких проектах шла речь?
— Обсуждалась совместная реализация проекта по Зашуланскому месторождению, китайские потребители очень интересуются нашим углем. Нам интересно расширение поставок энергетического угля. Важный вопрос — это транспортный, нужно доставить этот уголь. Пока у нас есть этот ограничивающий фактор.
— Но китайцы готовы нарастить?
— Да. Мы готовы конкурировать по цене и по качеству. Также металлургические компании Китая интересуются нашим коксующимся углем.
Инвестиции и цены
— Сильно ли просели инвестиции в этом году из-за кризиса?
— Если у нас в 2023 году было 275 млрд инвестиций, то в 2024 году уже около 248 млрд. В этом году они упадут еще сильнее. Сейчас наша задача — сохранить объем инвестиций в поддержание объемов производства и в безопасность.
— Сейчас цена угля на мировом рынке находится на низком уровне. Как вы видите ситуацию во втором полугодии, в следующем году?
— Если в начале года цена на российский энергетический уголь в среднем составляла $74–94 за тонну, то сейчас — от $63 до $80, на коксующийся уголь — падение со $120 за тонну до $86. Это очень серьезное снижение. Мы ожидаем, что к концу года цены все-таки поднимутся.
— Как вы оцениваете перспективы Донбасса как угледобывающего региона?
— Ситуация остается сложной. Если предприятия других регионов России годами вкладывали средства в модернизацию, то в ЛНР и ДНР такую работу особо никто не вел. Плюс сами запасы расположены глубже, там более сложная, дорогостоящая добыча. Поэтому сейчас мы ищем решения по государственной поддержке.
— Какой потенциал у них по добыче?
— Сейчас задача, чтобы этот уголь удовлетворил потребности этих регионов: промышленности и энергетики. В ДНР и ЛНР также есть и высококачественный уголь, антрацит, который может идти на внешний рынок. Кроме того, предприятия этих регионов расположены близко к южным портам, поэтому потенциал для экспорта есть. Но нужны усилия, инвестиции, чтобы модернизировать производство.
Чистый уголь на 1 000 лет
— Как долго России хватит запасов угля?
— Только для поддержания текущих уровней добычи — угля нам хватит еще на 500–600 лет, а если мы продолжим заниматься геологоразведкой, то на 1000 лет вперед запасов хватит точно.
— Велики ли шансы, что уголь нужен будет так долго?
— Конечно. Это ведь природный аккумулятор, готовый накопитель. К тому же уголь — это целая таблица Менделеева, поэтому мы вполне можем заниматься его переработкой. Конечно, у нас есть газ и нефть, поэтому пока углехимия кажется менее конкурентоспособной с точки зрения получения полимеров. Но это пока. В том же Китае порядка 150–170 млн т угля в год идет на переработку и получение полимеров, пластмасс.
Но технологии развиваются, с каждым годом они становятся все дешевле. Поэтому в перспективе мы намерены создать в России отрасль, которая будет заниматься глубокой переработкой угля. Этот путь нам кажется очень перспективным.
— Если говорить про использование угля как источник энергии, как долго его будут еще использовать? Многие утверждают, что век угля уже вот-вот закончится.
— Наше мнение — уголь как энергоресурс мы будем использовать всегда, так как он может стать полностью чистым с точки зрения как экологии, так и климата.
— Понятно, что есть технологии, которые делают генерацию более чистой, но не полностью же…
— Мы утверждаем, что уголь может быть абсолютно чистым. Угольные станции модернизируются, внедряются технологии по сокращению выбросов оксида азота, оксида серы и взвешенных частиц. Например, установка электрофильтра позволяет собрать и не выбрасывать в воздух до 99% взвешенных частиц.
Что касается климата, то можно собирать и CO2, уже есть такие технологии, а затем проводить его захоронение. Это тоже целая отрасль, и ее нужно развивать.
— Насколько экономически целесообразны все эти технологии?
— Конечно, сейчас мы не можем повсеместно их внедрить, однако мы будем модернизировать отрасль угольной генерации, соблюдая баланс между инвестициями и тарифами на электро- и теплоэнергию. Сейчас мы как раз разрабатываем такую программу.
— Как скоро можно провести модернизацию?
— В течение 10 лет это вполне можно сделать, модернизировав все станции и сделав их чистыми.