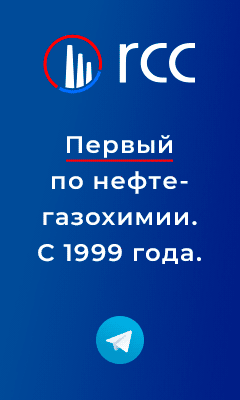Металлургическая отрасль в последние годы переживает если не кризис, то как минимум заминку роста. Мировое производство стали в 2024 году снизилось на 0,9%, до 1839 млн тонн. К 2021 году накопленный спад превысил 6%. Основной фактор сжатия предложения стали в мире — остановка роста ее выпуска в Китае, который был локомотивом глобальной сталелитейной отрасли с начала нынешнего века. После 2020 года производство стали в КНР неуклонно сокращается, накопленный спад достиг в 2024 году около 5% под влиянием резкого сокращения внутреннего потребления из-за кризиса в строительном секторе. В результате избыток китайского металла выплескивается на мировой рынок.
В 2024 году экспорт стали из Китая достиг 110,7 млн тонн — это максимум с 2015 года и более чем вдвое превышает показатель экспорта 2020 года (53,7 млн тонн), что негативно сказывается на ценах.
Ситуацию в мировой и российской металлургической отрасли с Моноклем согласился обсудить Игорь Буданов, доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
— Что мы наблюдаем — заминку роста китайской металлургии, качественно аналогичную кризису 2015‒2016 годов, или достижение пика потребления стали в Китае? Каков прогноз развития глобальной конъюнктуры на 2025-й и ближайшие годы?
— Металл нужен для эффективного накопления сбережений, то есть для перевода прибавочного продукта в основной капитал (средства производства).
Китай решил задачу индустриализации экономики и к 2010-м годам достиг эффективного уровня накоплений. Далее происходит снижение отдачи от накапливаемых ресурсов и рост затрат на обслуживание накопленного, как уже было в США и СССР.
Инерция создания новых мощностей привела к эффекту избыточного, с позиций использования в стране, производства стали в Китае. Переход в принципиально новую ситуацию со спросом стимулировал экспорт металлопродукции и металлосодержащих изделий.
Потенциал материализации накоплений при помощи инвестиционного комплекса КНР превышает возможности США и ЕС. Это предопределяет его успех в экономической (но не в политической) борьбе за Африку, Латинскую Америку, Среднюю Азию. Китайские компании активно создают производственные мощности за рубежом, используют экспорт металла и металлосодержащей продукции. Если к этим потокам подключатся компании других стран, то модель глобализации продолжится. Если усилится борьба за средства, накопленные за рубежом, то неизбежен кризис, металл в котором только индикатор борьбы за богатство, и не главный.
— Какие страны или регионы мира могут рассматриваться сегодня в качестве потенциальных драйверов роста глобального спроса на сталь?
— США, ЕС, РФ попали в ловушку финансовых сбережений и затягивают в нее сбережения других стран. Выйти из нее сложно, что отражается в неудачах реиндустриализации. Надежда на технологические прорывы в конструкционных материалах постепенно тает ввиду невозможности поддерживать ранее созданные активы. Эффект виртуализации процессов на базе уже существующего богатства стран привлекает все больше внимания даже в реальном бизнесе.
При повышении уровня защиты вкладываемых средств драйверами роста могут стать достаточно большое число стран. Так, потребление стали на душу населения в странах Ближнего Востока уже выше, чем в ЕС. Есть определенная инерция роста и, как показывает путь Южной Кореи, Турции, Саудовской Аравии и других стран, скачок производства и потребления возможен. Технологических, производственных ограничений мало, и для варки стали можно найти «повара»: варит печь, а не сталевар. На лидерство в накоплении капитала 2030-х годов претендует много стран, от Индонезии до Северной Африки.
— Каковы конкурентные позиции у ведущих мировых производителей стали (Китай, Индия, Япония, США, Россия, Южная Корея) в условиях стагнации/кризиса глобального спроса?
— Утрата позиций мировых лидеров в производстве стали началась не вчера. Их доля в мировом производстве за двадцатый век снизилась многократно. Парадокс, но при снижении доли в мировом производстве они продолжают диктовать правила поведения рынка — цены бирж, диктат трейдеров, нормы и правила доступа к ресурсам и так далее.
Ключевой момент 2020-х годов на рынке металла состоит в том, что старые правила и корпоративные подходы уже не работают, а новые еще не созданы.
Наиболее вероятно, что продолжится сегментация рынка по ценовым и качественным параметрам металлопродукции. Металлургия поддержания накоплений, металлургия утилизации активов, металлургия новых решений. Это повлияет на новые формы организации бизнеса. При усилении кризисных явлений со спросом пострадает рынок свободных продаж (по образу 2008‒2009 годов) и трейдеры, работающие на нем. В выигрыше по традиционной металлургии будут Индия, Иран, а также ряд стран, развивающих собственную металлургию.
Доминирующим фактором в металлургии становится уровень государственной поддержки отрасли. Это не только цена привлекаемых ресурсов, внутренний спрос, но и встраивание бизнеса во внешнеторговые цепочки.
— Одновременно мы видим, что в последние пятнадцать лет динамика промышленного производства в России все сильнее «отвязывается» от производства стали. С 2012 по 2020 год промышленное производство в постоянных ценах выросло на десять процентов, а производство стали только на пять процентов. А в последние три года выпуск стали уменьшился на девять процентов, а промышленность выросла на восемь процентов. То есть рост потребления металла в связи с СВО не смог компенсировать падение экспорта?
— Явления, требующие макроэкономической оценки, трудно рассматривать с отраслевых позиций. Это выглядит малоубедительным.
С ноября 2008 года экономические процессы отличаются от предшествующих, как и в 1999 году. Объяснений нет, есть констатация. Идет «проедание» капитала, в том числе привлеченного в 2000-е годы. Для «проедания» металл не нужен.
К чисто техническим моментам ответа на вопрос, почему для увеличения промышленного производства не нужна сталь, можно отнести выгодность развития по модели сборочных производств, на основе комплектующих, а не производств полного цикла. В этом случае затраты на трансакции и импорт многократно ниже капитальных затрат на преобразование стали в готовое изделие. Кроме того, следует принять во внимание наличие решений на основе вторичного рынка металлосодержащей продукции, продления эксплуатации и интенсивности использования мощностей. Наконец, я бы отметил рост виртуальной составляющей в стоимости промышленной продукции и объективные трудности с использованием сопоставимых цен для оценки экономической динамики.
До 2021 года сохранялась пропорциональность между динамикой инвестиций в основной капитал и конечным потреблением металла (включая внешнеторговое сальдо по металлосодержащей продукции). С 2021 года эта связь оказалась нарушена, причины следует искать в статистике инвестиций. Они могут быть связаны как с оборонными расходами, так и с уходом иностранных собственников. Не исключено и усиление любви к воздушным замкам. Но это только догадки, подождем. Рано или поздно, но придется дать ответ на вопрос, приводит ли экономический рост к приумножению богатства страны. Если ориентироваться на потребление металла, то нет.
II закрытая конференция "Графит 2024" пройдет 27 февраля
VII ежегодная конференция "Реагенты в горнодобывающей промышленности" пройдет в Москве 28 февраля
IV отраслевая конференция "Редкие и редкоземельные металлы" пройдет 25 марта