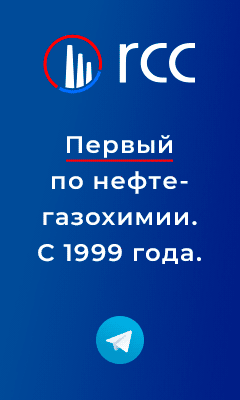Наступающий 2019 год станет, видимо, знаковым в истории «Сибура». Во-первых, компания вышла на финишную прямую со своим мегапроектом «Запсибнефтехим». Запуск нового производства в Тобольске вдвое увеличит мощности компании. 2 млн т нового производства пластиков и эластомеров при общем потреблении в России 5,1 млн т в 2017 г. уже сама по себе внушительная цифра. Во-вторых, финансовые показатели «Сибура» уже сейчас бьют рекорды: на конец III квартала впервые в своей истории компания вышла на уровень EBITDA за 12 месяцев более $3 млрд, если точно – $3,2 млрд.
Все вместе это подводит «Сибур» к самой интересной и пока неизвестной цифре: во сколько его готов оценить рынок. Начиная с 2007 г. не раз ожидалось IPO «Сибура» исходя из заявлений акционеров и действий компании, которая останавливалась на полпути. Станет ли IPO реальностью в 2019 г., мы скоро узнаем. Председатель правления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов осторожен и прогнозов не делает – ни по срокам возможного размещения, ни по цене. Собеседники, близкие к компании, летом называли диапазон $20–26,5 млрд как комфортный для размещения. Если «Сибур» выведет на биржу даже 10% акций, это IPO станет крупнейшим для российских компаний за последние 10 лет.
– У «Сибура» нет стратегии в классическом понимании этого слова. Несколько лет назад в интервью «Ведомостям» вы говорили, что компания живет в режиме «сдвигающейся цели»: ставите одну, достигаете, определяете новую. Тогда новой целью был «Запсибнефтехим». Что будет следующей?
– Не совсем так. Нет стратегии в одном документе. Есть принципы, которые мы используем в бизнесе, но мы не ограничиваем количество показателей, на которые ориентируемся в момент времени. Например, сейчас нет рыночных предпосылок для увеличения производства синтетического каучука, потому что Россия потребляет примерно половину того, что производит, а глобальными мы в этом сегменте быть не можем с сегодняшним уровнем развития промышленности, потребляющей каучук. Противоположный пример: есть легкое углеводородное сырье, которое находится далеко от рынков сбыта, но доступно для переработки в нефтехимическую продукцию по достаточно привлекательной цене. Это направление мы развиваем. И следим за рынками, прежде всего за внутренним: в каких продуктах он нуждается сейчас или будет нуждаться в будущем.
– Был спрос на полимеры – появился «Запсибнефтехим». Сейчас он практически достроен. Следом, видимо, будет строиться Амурский газохимический комплекс (АГХК). После него период больших строек закончится?
– Я пока не утверждаю, что Амурский ГХК уже подтвержденный проект. Нам нужно еще около года на детальную проработку. Я не знаю, что будет через два года: где будет мировая цена на газ, мировая цена на нефть, какой рост мирового ВВП и, соответственно, рост спроса.
Мы проходили такое же упражнение с «Запсибнефтехимом». Это 2 млн т продукции, потребление которой в мире 170 млн т. Исторически потребление полимеров растет в 1,5 раза быстрее, чем мировой ВВП. Если принять консервативную оценку будущего роста рынка полимеров, то этот коэффициент будет не 1,5, а 1,2–1,3. Но даже с таким мультипликатором и 3%-ным ростом ВВП в мире для удовлетворения растущего спроса нужно добавлять каждый год 6–7 млн т мощностей.
Это базовый сценарий. Но можно считать, что такого роста не будет – не то чтобы мы этой точки зрения придерживались, а теоретически – и весь спрос закроется возвратом в переработку уже существующих изделий из полимеров. Тогда можем начать инвестировать в сбор мусора и вторичную переработку, а не в строительство мощностей по выпуску первичных полимеров. Кстати, мы уже сейчас по одному из продуктов выбираем между новым проектом по расширению производства и инвестициями в увеличение сбора полимерного вторичного сырья.
«Продолжаем изучать целесообразность IPO»
– Летом снова зашла речь о возможном IPO компании. Вы заказывали какую-то экспертизу, оценку и т. д. Что вам вернулось?
– Продолжаем изучать целесообразность. Выход на публичный рынок всегда привязан к какому-то пакету финансовой отчетности. Она публикуется раз в квартал. После даты, когда заканчивается отчетный период, есть окно, в рамках которого можно сделать компанию публичной.
– Сейчас вы закрыли III квартал...
– Допустим, девять месяцев. Дальше получается следующая история. Если вы хотите сделать IPO, то должны принять на уровне совета директоров и, возможно, собрания акционеров определенные корпоративные решения, которые не могут быть не публичными. Поэтому примерно за месяц до того, как компания станет, если захочет, публичной, все узнают о таких планах.
– Вы начали изучать целесообразность IPO. Чьей инициативой было получить реакцию рынка на возможность размещения? Настаивали ли на этом китайские акционеры?
– Почитайте интервью Леонида Михельсона о «Сибуре», когда он его покупал. Он с самого начала говорил, что «Сибур» должен быть публичной компанией. Уже сейчас с точки зрения корпоративного управления и раскрытия финансовой информации мы развиваем компанию в соответствии с лучшими практиками публичных компаний и продолжим это делать вне зависимости от планов по IPO.
– Вы себя во сколько оцениваете?
– Мы сфокусированы на развитии бизнеса и увеличении акционерной стоимости, а справедливую оценку пусть нам дает рынок.
– А потенциальные инвесторы, с которыми встречаетесь в свете возможного IPO, делятся своим видением относительно стоимости компании сейчас?
– Сейчас речь о том, что есть некий набор инвесторов. И нам интересно их мнение по поводу компании, ее бизнеса, на что они смотрят в первую очередь. Рассказать им на всякий случай сейчас о том, что представляет из себя компания, если они о ней не знают, и т. д. Вот это сегодняшний этап.
Непосредственные разговоры о стоимости целесообразны, когда и если будет, условно, полноценное корпоративное решение, выход отчетов об оценке в банках и начало обсуждения ценового коридора.
– Что инвесторы думают про инвестиционные лимиты в стране, как оценивают страновые риски?
– Мы [с ними] о себе все-таки разговариваем. Страновые лимиты не обсуждаем. Нам кажется, что мы [«Сибур»] нравимся [инвесторам].
– Вы свой пакет, если будет IPO, будете размещать? (По данным компании, на 30 сентября 2018 г. Конову принадлежит 3,46% акций.)
– Это, скорее всего, было бы неправильно истолковано рынком. В целом когда и если акционеры примут соответствующее решение, тогда и вернемся к этому вопросу.
«Компания не подпадает под санкции»
– Два члена вашего совета директоров под санкциями. Вы не собираетесь из совета директоров выводить их, так скажем? Ситуация с ними не мешает работать компании?
– Нет. Они же и акционеры, и члены совета директоров – те, о ком вы говорите. Есть четкие правила. Они достаточно черно-белые, и согласно им компания не подпадает под санкции. Оттого что акционеры представляют свои пакеты в совете директоров, никакой разницы не возникает. С точки зрения регуляторики отношение ровно то же самое.
– В ноябре ждут новую волну санкций. Вы готовитесь, как-то страхуетесь?
– Нет. Единственное, о чем переживаем, – там что-то про химию, а мы тоже про химию. Если серьезно – ну а как мы можем подготовиться?
Мы сфокусированы на том, на что можем повлиять, – повышении эффективности, маркетинге, инвестициях и т. д., а то, что за пределами нашего контроля, воспринимаем как еще один внешний вызов.
– Как уживаются в компании Михельсон и Геннадий Тимченко? Кто из них больше влияет на компанию, на менеджмент?
– Что такое «влияет»?
– Можно сидеть с 5%, но быть той еще занозой. Вы же понимаете, как это бывает.
– По моим наблюдениям, у них, видимо, за время работы в «Новатэке» выработалась определенная модель сотрудничества, которая их устраивает. По ключевым вопросам они достаточно едины, в том числе в понимании стратегических ценностей даже при отсутствии стратегии в одном документе. Обоим нравится «создавать что-то новое». Обоих, мне кажется, в хорошем смысле заводит история с созданием в России перерабатывающей технологичной индустрии другого масштаба. Ведь они как акционеры многие годы планомерно поддерживают положение, когда практически весь денежный поток компании идет на инвестирование. Значит, тема роста и возможностей в этой индустрии каким-то образом их затянула.
– Вы направляете на дивиденды 25% чистой прибыли. Не собираетесь увеличивать?
– Опять же вопрос к акционерам.
– Кто и сколько хочет?
– Акционеры ориентируются на создание сбалансированной модели, учитывающей долгосрочные интересы компании и акционеров. Вообще, если честно, то в обсуждении по поводу дивидендной политики наибольшую активность проявляют не действующие акционеры, а потенциальные инвесторы, с которыми мы разговариваем.
«Первый проект, ориентированный на азиатский рынок»
– В мае вы с «Газпромом» подписали контракт на поставку этана. Но сейчас говорите, что окончательного решения о строительстве АГКХ пока нет. Речь о реализации проекта вообще или только о сроках строительства?
– Есть история сроков строительства и синхронности запуска с Амурским газоперерабатывающим заводом (АГПЗ). Объемы поставок сырья зависят от ввода АГПЗ. Сейчас мы находимся на стадии, которая называется extended basic design, она даст нам возможность лучше понимать размер необходимых капитальных затрат. Во второй половине следующего года мы сможем еще раз посчитать экономику и принять решение.
– «Газпром» тем временем под АГПЗ уже площадку разровнял.
– Строительство АГПЗ уже идет, поскольку «Газпрому» необходимо выделить гелий и азот из газа, который пойдет по «Силе Сибири» с этих месторождений (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области).
Другими словами, «Газпром» строит завод не для того, чтобы этан продавать «Сибуру», а чтобы выделять гелий и азот для соответствия газа товарной спецификации. А параллельно получает две группы продуктов, которые может монетизировать. Пропан и бутан доставить на рынок легко – для этого достаточно построить эстакаду. Этан вывезти сложно, потому что его невозможно транспортировать ни железной дорогой, ни длинной трубой. Мы можем быть тем потребителем, который купит и там же рядом построит производство по переработке этана. Если проекта АГХК не будет, то ранее выделенный этан пойдет обратно в метановый поток. Как это происходит в России в целом, он будет просто оставаться в товарном газе.
– У вас есть внутренний дедлайн для решения?
– У нас должно быть достаточно времени от принятия инвестиционного решения до начала производства, условно, в конце 2024 г. Например, «Запсиб» на механическую готовность выйдет в мае 2019 г. Начали строить в феврале 2015-го. Соответственно, четыре года.
– Значит, начинать строить АГХК надо не позднее 2020-го.
– Да, примерно.
– Вы определились с возможными партнерами? Раньше обсуждались консорциум китайских компаний, Sinopec, China Development Bank (CDB).
– CDB? Мне кажется, что мы никогда этого не говорили. Нас и не спрашивали.
– В конце весны был сценарий, в котором 49% в проекте может получить отдельно взятая Sinopec. У вас есть сейчас какая-то конфигурация возможной сделки?
– Переговоры идут.
– Сколько готовы отдать?
– Хотим сохранить за собой контроль в любом случае. Для нас АГХК – первый проект, ориентированный на азиатский рынок, и мы смотрим варианты партнеров, которые снимут риски для нас как инвестора.
«Покупать мы не любим»
– У компании есть непрофильные активы, от которых стоит избавиться, направления, которые вам больше не интересны?
– Мы последовательно выходили из активов, которые не давали нам значимого роста. Секрета не делали – например, о том, что не хотим стратегически быть в азотных удобрениях и в шинах, сказали задолго до того, как вышли.
Есть примеры, когда мы выходили из конкретных производственных активов внутри существующего бизнеса. Само направление остается, но от какой-то конкретной географии мы отказывались во многих случаях одновременно за счет новых инвестиций в кратно более крупные производства. Об отказе от каких-то направлений бизнеса мы сейчас не говорим. Может ли, условно, какой-нибудь актив в каучуках или в другом бизнесе стоять «на выходе»? Может. «Уралоргсинтез» был? Был. Вышли? Вышли.
Какой-то набор субоптимальных активов у нас еще есть. В принципе, это можно определить. Если у нас где-то нет инвестиций, то, скорее всего, в случае интересного предложения по этому активу будем готовы его рассмотреть.
– А сами к чему-нибудь присматриваетесь?
– Покупать мы не любим. Это одна из ключевых предпосылок нашей стратегии, которой, повторюсь еще раз, нет в виде единого документа. Пропустив два-три инвестиционных цикла, российская нефтехимия к началу 2000-х оказалась очень неэффективной. Небольшой размер активов с трудом позволял конкурировать по себестоимости с производствами глобальной мощности. Технологии устарели. География – в удалении от рынков сырья и сбыта.
Мы, начав с себя, пытались эту архитектуру отрасли изменить, и, достигнув определенных результатов, будем двигаться дальше. Мы хотим большие масштабы в правильном месте, с оптимальной логистикой, дешевой электроэнергией, возможностью взаимодействия с другими производствами. Но изменить архитектуру отрасли через приобретения практически нельзя, нужно создавать новое.
– В «Газпроме» вы видите потенциального конкурента? Они планируют строительство гигантского газохимического комплекса в Усть-Луге.
– Он гигантский настолько, насколько мы знаем из ваших же статей. Захотят – будут конкурентами. Мы приветствуем конкуренцию.
– Вы уже проектируете для «Газпрома» один ГПЗ на Дальнем Востоке. В новом проекте вас звали участвовать?
– Мы не проектируем АГПЗ. Мы помогаем «Газпрому» управлять реализацией этого проекта. Если быть совсем точным, мы PMC-подрядчик (Project Management Company). «Газпром» покупает у нас как услугу компетенции сотрудников «Нипигаза» по управлению проектом. При этом оставляя за собой принятие решений внутри этого проекта. В проект на Балтике нас не приглашали.
«Поход против низкоквалифицированного труда»
– Расскажите о проектах по цифровизации компании. Дроны, гаджеты, виртуальная реальность... Что-нибудь из этого уже взлетело?
– Дроны, да, взлетели. Сейчас мы контролируем целостность продуктопроводов не вертолетами, а дронами.
– Есть результаты, которые можно потрогать? Рост производительности в денежном выражении?
– В 2017 г. мы только начали системно разворачивать цифровую трансформацию компании. Причем большую часть года скорее писали программы, чем использовали их. А если использовали, то больше на пилотных проектах, без тиражирования. Но даже это, по нашим оценкам, дало эффект в районе 1 млрд руб. Точнее не скажу, потому что мы сознательно не делим эффект между цифровыми и не цифровыми инициативами, которые внедряются параллельно. Представьте: спортсмен улучшил свой результат. Для этого одновременно изменил программу тренировок, обновил экипировку и перешел на новую диету. Для тренера не принципиален точный процентный вклад каждого действия в результат, если он есть.
В горизонте нескольких лет ориентир более ощутимый. Хотим выйти на двузначное прибавление в процентах к EBITDA. По нашим сверкам с другими нефтехимиками, это примерно тот результат, на который надеются наиболее агрессивные в цифровизации компании, около или чуть более 10% рост к EBITDA.
– Даже 10% к вашей EBITDA сейчас – это около 20 млрд руб. в год. С учетом мощностей «Запсиба» через несколько лет это будет 30 млрд руб. Это достижимо?
– Я искренне верю, что цифровизация – это на 90% не про цифру как таковую и не про железо. Она про то, как ты работаешь. В первую очередь про оптимальное использование данных, которые уже есть у компании или которые можно дополнительно получить через цифровые инструменты.
Простой пример. У установки есть температурный диапазон режима работы в пределах 728–738 градусов. И в рамках этого диапазона значения массы дополнительных входящих данных – потребления сырья, пара, качества продукции на выходе – различны. Для измерения этих данных функционирует сотня датчиков, которые выдают информацию с разным временным интервалом. Человек качественно проанализировать рассинхронизированные потоки информации не может. На практике это превращается в попытку контроля над процессом исходя из уже накопленного опыта и в разной степени развитой интуиции. А можно с помощью цифровых инструментов проанализировать уже накопленные, но разрозненные данные. У нас целая группа сотрудников занимается тем, что называется «предиктивная аналитика». Когда тебе цифровой алгоритм подскажет, что через такое-то время после поступления таких-то сигналов установка останавливается. И что нужно сделать, чтобы этого не произошло. Другой вопрос – как связать работу оператора с оптимизационным механизмом, кто первичен, человек или машина, и насколько обязательны к исполнению ее рекомендации.
Второй пример. Допустим, на «Запсибнефтехиме» 345 000 единиц оборудования. Часть оборудования обслуживают поставщики, которые должны помогать в том числе при запуске. Технологии значительно упрощают этот процесс – просто сидит человек в виртуальной реальности, данные получает с камер и удаленно проводит наших сотрудников через процедуры запуска. Мы сами так же работаем со своими газоперерабатывающими заводами: их восемь, а центр, где сидят люди, которые занимаются компрессорами, – один. И специалистам по компрессорам не обязательно ехать из Нижневартовска в Ноябрьск – можно и из Нижневартовска подключиться.
Еще один достигаемый эффект: на «Запсибе» будет работать около 1700 человек на первом этапе, когда мы будем запускать комплекс, затем меньше. Внутренняя цель по Амурскому ГХК, если мы будем его строить, – спроектировать завод так, чтобы там было достаточно 600 сотрудников. Мы понимаем из своих наработок по цифровизации, как по-другому можно оборудовать и оснастить комплекс, чтобы иметь более высокую производительность.
– За время, что вы работаете в «Сибуре», количество сотрудников сократилось втрое, а выручка выросла в 5–6 раз. Это тренд?
– Это не просто тренд, это наша постоянная работа по управлению эффективностью. Не забывайте при этом, сколько мы продали производств и бизнесов, площадок – частично этим и объясняется «втрое». А вообще, да, мы систематизируем всю информацию и данные, вооружаем ими менеджеров, чтобы они могли принимать оптимальные решения, и также внедряем инструменты, которые вообще думают за них, оставляя людям только самые сложные решения. Не говоря уже о «походе» против низкоквалифицированного, легко алгоритмизируемого труда и на производстве, и в офисе.