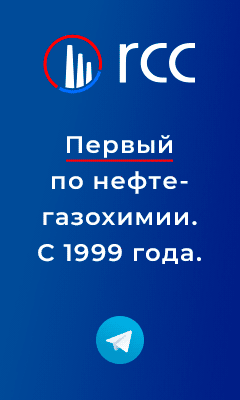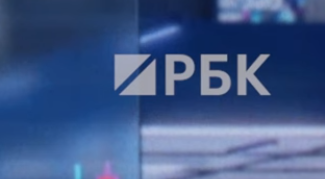Подобные сведения, вне всякого сомнения, подчеркивают актуальность проблемы, но не проясняют личную позицию и собственное мнение участников фармацевтического рынка и конечных потребителей продукции по поводу контрафактной продукции. Представления же об ущербе или степени опасности фальсифицированных медикаментов у каждой категории потребителей могут различаться, а в ряде случаев и не совпадать с официальной точкой зрения властей.
Чтобы эффективно бороться с фальшивыми лекарствами, нужно иметь четкое представление о том, интересы какого участника рынка являются приоритетными для государственных органов и что такое фальсификат как таковой.
Так, например, критерием фальсификации для потребителя является недоброкачественность товара. Ему все равно, подделка это или брак легальной продукции из-за умышленного либо неумышленного несоблюдения технологии. Наоборот, “левая” (сверхплановая), но качественная продукция с этого завода, по сути, для него фальсификатом не является.
Для производителя фальсификатом будет любой не им изготовленный товар, выпушенный под его маркой, независимо от его качества. Причем собственная бракованная продукция не является для него фальсифицированной, хотя из-за несоответствия своим заявленным свойствам она полностью подходит под это определение. Что касается неучтенной продукции с этого предприятия, то она будет рассматриваться как контрафактная, если ее выпуск был налажен без ведома руководителей.
Товаропроводящая сеть (оптовики и розничное звено) к поддельным медикаментам отнесет те, которые будут выявлены соответствующими контрольными органами. Это вполне корректно, но при отсутствии предварительного сговора с владельцем нелегальной продукции и возможной некомпетентности ответственных за поставку лиц, а также при условии непричастности дистрибьюторов и аптек к самостоятельному изготовлению фальсифицированных медикаментов. В данном случае речь идет о недобросовестных и мошеннических операциях: например, о сопровождении контрафактных препаратов с небольшой партией оригинальной продукции, изменении сроков годности медикаментов, переупаковке дешевых аналогов в более дорогие; повторной попытке реализации изъятых из продажи, но не уничтоженных медикаментов и т.п.
Наконец, для органов государственной власти фальсифицированным является любой незаконный медикамент, то есть изготовленный вне уполномоченного на его производство предприятия, вне связи с количественным или качественным содержанием ингредиентов в поддельном препарате. В новом законопроекте Минздрава РФ от 2001 г. под определение фальсифицированной продукции подпадает лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о составе и/или производителе. Возникает вопрос, к какому виду продукции - легальной или фальсифицированной - относить выпуск неучтенных по официальным документам препаратов на уполномоченном заводе (происхождение и состав продукции могут соответствовать указанным на упаковке данным), либо выпуск неофициальной продукции (без соответствующего разрешения и лицензий, но и без ложных сведений о производителе).
Интересно, что в связи с особенностями патентного права существуют законные способы продвижения по сути поддельных медикаментов на фармацевтический рынок. Фальсификатор (страна или завод-изготовитель) не подделывает оригинальный препарат, что чревато негативными последствиями, а выдает его за собственную разработку и выпускает под своим именем. При регистрации или во время вполне возможных судебных разбирательств фальсификатор ссылается на наличие собственной технологии изготовления препарата, не опирающейся на запатентованный способ. В итоге без издержек на разработку и продвижение препарата на рынок у фальсификатора появляется блестящая возможность предлагать аналогичный по качеству и потребительским свойствам медикамент, но по более низким ценам, а в ряде случаев представлять свою поддельную продукцию как феномен импортозамещения, прикрываясь мнимой заботой о потребителе. Конечно, подобный изощренный способ недобросовестной конкуренции возможен при полном соответствии данного препарата его заявленным свойствам. Однако для большинства фальсификаторов это экономически не выгодно. Они довольствуются более доступными способами, подделывая оригинальные препараты путем недовложения ингредиентов или использования более дешевой и соответственно менее качественной субстанции, а также вообще ее полной заменой на худшие аналоги или иные компоненты. Тем более, что в большинстве случаев обнаружить подделку практически невозможно не только рядовому потребителю, но и самим аптекам, не располагающим специализированными химико-аналитическими лабораториями.
Интересно, что на государственном уровне легальный, но некачественный товар, по сути аналогичный фальсифицированному, юридически таковым не является, а относится к разделу бракованной продукции. Причем на рынке этот брак присутствует в гораздо больших количествах, чем не менее опасные для здоровья «классические» поддельные медикаменты. Если на постоянной основе проводить мониторинг некачественной продукции, то, скорее всего, в списке «лидеров» будет очень мало случайных участников, что может служить одним из дополнительных факторов инвестиционной непривлекательности подобных структур и показателем повышенного уровня деловых рисков.