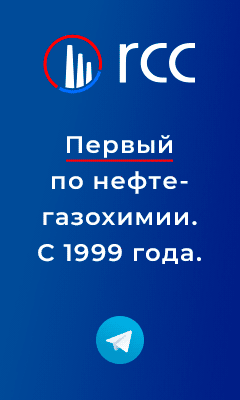Энергостратегия России ставит целью ежегодную добычу в 540 млн тонн нефти. Для этого стране нужны новые месторождения, ключи к «трудным» углеводородам и выход на новые участки в Арктике и Восточной Сибири. О том, насколько нефтегазовая индустрия готова к этим вызовам, о развитии технологий и цифровизации «ИнфоТЭК» поговорил с директором по геологоразведке «Газпром нефти» Юрием Масалкиным.
– Юрий Владимирович, какие факторы оказывали влияние на глобальную геологоразведочную отрасль последние годы?
– Одним из главных факторов последних лет, влияние которого в той или иной степени ощущается и сегодня, стала пандемия. В 2020 году геологоразведка оказалась на спаде вместе со всей мировой нефтяной отраслью – самолеты стали меньше летать, производство замедлилось, спрос на энергоресурсы упал.
Общим трендом стало сокращение вложений в геологоразведочные (ГРР) проекты, реализация которых предполагалась через пять-восемь лет. Разница была лишь в степени сокращения. Россия в целом и наша компания в частности отличались более сдержанной корректировкой планов, чем зарубежные организации. Часть из них кардинально урезали инвестиции в ГРР.
К сокращению инвестиций в ГРР западные компании подталкивала и «зеленая» повестка. Это происходило на фоне неоднозначных оценок будущего спроса на углеводороды.
– Как отразился на отрасли уход иностранных поставщиков?
– Российский ТЭК достаточно давно работал в условиях ограничений на зарубежные технологии и сервисы. Процесс импортозамещения стартовал примерно со второй половины 2000-х годов, и отрасль в значительной степени была готова к сценарию таких ограничений. Россия выстроила устойчивые связи и технологический обмен с дружественными странами. Они, в том числе смогли поддержать нашу промышленность с точки зрения технологических решений.
– Используете ли вы в работе искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение?
– Сегодня искусственный интеллект и большие данные применяются на всех этапах геологоразведки. Благодаря ИИ нам удалось значительно сократить цикл геологоразведочных проектов. С помощью интеллектуальных алгоритмов компания ускорила этап интерпретации результатов сейсморазведки от 10% до 30%, что позволило приблизить старт разработки месторождения примерно на год.
В 2025 году с помощью ИИ мы автоматизировали процесс интерпретации горизонтов и выделения разломов. Это позволило повысить качество результата и ускорить переход к следующим этапам создания 3D-модели залежей.
Если раньше несколько геологов были вынуждены интерпретировать 100% данных в течение шести месяцев, то теперь один специалист интерпретирует 1-2% и обучает ИИ, который обрабатывает оставшиеся 98%. На весь процесс уходит две недели.
Мы используем ИИ не только на новых проектах. С его помощью заново открываем, казалось бы, хорошо изученные и знакомые районы – в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, в Западной Сибири и т.д. Цифровые инструменты помогают найти закономерности в гигантских массивах данных разных видов геологоразведки, которые традиционными методами обнаружить было невозможно.
С одной стороны, размеры новых месторождений и качество запасов по всему миру снижаются (Россия тут не исключение). А с другой, появляются новые инструменты, которые дают нам возможность вовлекать в эффективное производство небольшие месторождения площадью около 1-3 кв. км.
– Не заменит ли ИИ геологов при таком подходе?
– Искусственный интеллект – это инструмент. Он не может работать самостоятельно, ему необходим контроль со стороны человека, который будет ставить задачи, задавать контекст, верифицировать результаты. Полностью положиться на ИИ нельзя. Но и цели такой не ставится. Перед нами стоят новые геологические задачи, решать которые сначала должен человек. Искусственный интеллект без человеческого опыта с ними не справится.
– С какими главными вызовами вы сталкиваетесь сегодня в области ресурсной базы?
– Сокращение традиционных и рост доли трудноизвлекаемых запасов. Многие крупные месторождения переходят на зрелую стадию. Нам нужны инструменты для интенсификации добычи. На этом фоне все большее значение обретают удаленные и малоисследованные районы Арктики и Восточной Сибири. Все эти вызовы отражены в Энергетической стратегии России и учтены в стратегии «Газпром нефти».
– На каких регионах компания фокусируется сегодня?
– Один из важнейших регионов перспективного развития компании – Арктика. Мы продолжаем геологоразведку на нескольких направлениях в ЯНАО. В 2025 году провели сеймику в районе Обской губы. Продолжим изучение этого региона и в 2026-м.
Стратегическим направлением является Восточная Сибирь. Регион отличает огромная площадь, а плотность распределения запасов там в 20 раз меньше, чем в Западной. Работа в таких условиях – это инфраструктурный, организационный и управленческий вызов. Однако у «Газпром нефти» уже накоплен богатый и успешный опыт. Наш самый крупный геологоразведочный проект в этой части России – Чонский (Игнялинский, Вакунайский и Тымпучиканский участки на границе Якутии и Иркутской области). На 2026 год в этом регионе у нас запланированы масштабные геологоразведочные работы.
Также мы продолжаем изучение участков на юге Оренбургской области, где несколько лет назад открыли новое месторождение.
– Реализуются ли какие-то проекты в области геологоразведки «трудных» запасов?
– По этому направлению мы работаем преимущественно с ачимовской и тюменской свитами. Приоритет – традиционным регионам добычи, чтобы максимально эффективно загрузить существующую инфраструктуру. Представьте, что только в Западной Сибири потенциал ТрИЗ достигает 15 млрд т.
Наша задача в области трудноизвлекаемых запасов заключается не только в том, чтобы обнаружить, где скрыта нефть, но и в том, чтобы предложить решения для её эффективной добычи. Уже на этапе поиска мы используем высокотехнологичные скважины с горизонтальными стволами до 1,8 км. Проводим мультистадийные ГРП. Это подчеркивает усложнение геологоразведки и роль технологий.
Когда-то запасы Приобского месторождения в Югре относились к «трудным» и забалансовым. Прошло время, мы подобрали технологии и сегодня это один из главных нефтедобывающих активов России. Мы движемся этим же путем в отношении всех сложных ресурсов. В 2025 году «Газпром нефть» создала крупнейшую в России сеть технологических полигонов. На пяти площадках в разных регионах мы испытываем новые решения для бурения, гидроразрыва, интенсификации добычи. Цель одна – создание инструментов для рентабельной добычи ТрИЗ.
– Сталкиваетесь ли вы с кадровыми сложностями?
– Нам удалось сформировать мощный кадровый потенциал и собрать одну из лучших команд в области геологоразведки во всей отрасли. Современный геолог – это не просто специалист с дипломом горного инженера, но и айтишник. Бигдата, ИИ используются во всех процессах. Надо знать не только как собрать данные, но и грамотно их обработать, поставить задачу машине, чтобы найти закономерности и подтвердить геологическую гипотезу.
Примечательно, что всего несколько лет назад специалисты нефтяной отрасли переходили в сферу ИТ за карьерой и развитием. Сейчас они возвращаются. Ведь именно в ТЭК и в «Газпром нефти» есть масштабные проекты, значимые для всей страны.
– Как вы готовите специалистов?
– Мы создали собственную программу развития компетенций по управлению проектами в геологоразведке – «Гео Академию». Она помогает усилить экспертность в геологии и проектном управлении, а также в сфере финансов, менеджмента, портфельного анализа. Иными словами, все аспекты классического бизнес-образования, которое позволяет работать в любых моделях. Особенность – фокус на геологоразведку. С 2019 года в «Академии» прошли обучение более двухсот сотрудников компании. Сейчас участниками программы становятся и внешние партнеры.
Мы занимаемся самой рискованной частью бизнеса во всей цепочке формирования стоимости нефти. Шанс успеха в среднем по отрасли – 30%, инвестиции длинные, притом сохраняется фактор неопределенности. Необходимо учить людей управлению такой деятельностью, учить их принимать риски. Это не так просто, как может показаться. Если у тебя разброс возможного результата от 0% до 300%, то необходимо обладать специальными навыками, чтобы управлять инвестициями и просто жить в условиях высокой неопределённости. Для этого нужны профессионалы нового поколения. Мы делаем ставку именно на них и создаем условия, в которых в нашей команде каждый может максимально раскрыть свои таланты и потенциал.