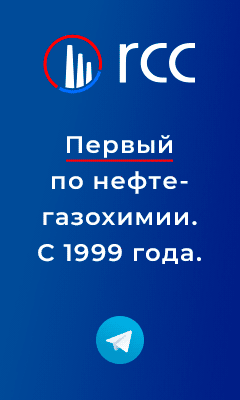Глава Минэнерго Сергей Цивилев в интервью ТАСС раскрыл, какое оборудование для СПГ и бурения уже готово к поставкам за рубеж, когда стабилизируются цены на топливо и почему Россия может вернуться к практике строительства гигантских ГЭС. Вместо реакции на кризисы — упреждающее развитие, а вместо поставки сырья — экспорт собственных технологий. Также в интервью — первые итоги регулирования майнинга, планы по новым геотермальным станциям и оценка готовности энергосистемы к зиме.
— Сергей Евгеньевич, немногим более года назад мы брали у вас интервью, где вы говорили о переходе от решения локальных задач к системному развитию ТЭК. Какие цели для вас приоритетны сегодня?
— Глобально цели не меняются. Наш приоритет — системное развитие ТЭК, чтобы отрасль оставалась фундаментом роста российской экономики. Мы стремимся сохранить лидерство на мировых энергорынках, ведущую роль ТЭК в экономике России, ее инвестиционный потенциал и обеспечить загрузку промышленности. Но самая важная задача — гарантированное обеспечение граждан нашей страны экологичными и доступными ресурсами.
— Вы упоминали о планах по экспорту технологий ТЭК. Что именно Россия может предложить миру?
— Примеров много. Наши компании создают целый ряд конкурентоспособных разработок, готовых к выходу на международные рынки. До конца 2025 года мы полностью импортозаместим 26 видов критически важного оборудования для СПГ-проектов. Речь о криогенных насосах, компрессорах и запорной арматуре. Это позволит реализовывать масштабные проекты по сжижению газа на полностью отечественной технологической базе.
Наиболее вероятные направления для экспорта этих и других технологий — страны БРИКС, Ближнего Востока и Африки, где сочетание доступной цены и хорошей эффективности может стать решающим преимуществом.
Также мы активно ведем работу по импортозамещению оборудования для бурения и добычи, что повысит эффективность работы на сложных месторождениях. Например, успешно прошли испытания и готовятся к серийному производству комплексы для многоствольного заканчивания скважин. Уже применяются российские скважинные тракторы, которые демонстрируют высокую надежность.
В нефтепереработке мы разработали и испытали ключевой элемент установки замедленного коксования — инструмент гидроабразивной резки кокса. Это отечественное оборудование в перспективе позволит максимизировать глубину переработки нефти до 100%.
— Вы назвали новые, опережающие технологии. А что мы уже прямо сейчас готовы поставлять на экспорт?
— У нас уже накоплены компетенции, которыми мы планируем делиться. Мы можем нарастить экспорт технических решений в области строительства скважин сложной траектории, а также методов увеличения добычи высоковязкой и трудноизвлекаемой нефти.
Если говорить об оборудовании, то это центробежные и поршневые компрессоры, насосные агрегаты, турбодетандерные установки, приводы, а также блочно-модульное оборудование и технологии для заканчивания скважин.
— Планируется ли создание системы продвижения этих технологий и сервисной поддержки за рубежом?
— Конечно, такая система необходима для полноценного выхода на международные рынки. Более того, идея создания отдельного института уже формируется. Например, Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) стимулирует локализацию нашего нефтегазового оборудования за рубежом через систему отраслевых стандартов и оценки соответствия.
Ключевой момент — признание этих стандартов иностранными компаниями. В этом случае российский производитель получит реальный доступ к рынку. По сути, это прообраз центра, который не только развивает компетенции внутри страны, но и открывает "коридор" для выхода технологий на глобальный рынок.
— Насколько активно искусственный интеллект внедряется в ТЭК?
— Искусственный интеллект уже стал инструментом для повышения эффективности прогнозирования и долгосрочного планирования в отрасли. Сегодня его используют 58% организаций ТЭК — это в два раза больше, чем в 2021 году.
Ожидается, что к 2027 году доля компаний, применяющих ИИ, достигнет 70%. На данный момент компании ТЭК реализуют порядком 300 проектов с применением ИИ, и эта цифра продолжает увеличиваться
Важно, что все эти проекты реализуются полностью на российских технологиях.
— Давайте поговорим об электроэнергетике. Недавно во многих городах России уже включили отопление, впереди зима. Готова ли отрасль?
— Да, мы делаем все для спокойного прохождения осенне-зимнего периода. Подготовка идет планово и комплексно, с акцентом на модернизацию инфраструктуры. Сюрпризов быть не должно. В целом, наш топливно-энергетический комплекс готов к зиме на 96%, до 7 ноября компании должны будут получить паспорта готовности к отопительному сезону.
Кроме того, создан значительный аварийный резерв, включающий 23 тыс. специализированных бригад и 7,5 тыс. резервных источников электроснабжения. В целом, на ремонтные работы и модернизацию инфраструктуры в 2025 году выделено 2,2 трлн рублей. Мы выявляем слабые места и вовремя их устраняем. Время еще есть, и к холодам все объекты будут полностью готовы.
— Вы недавно анонсировали подготовку масштабного закона об электроэнергетике. В чем главная задача этой реформы и что она изменит для отрасли?
— Важно обеспечить конкурентную, обоснованную стоимость киловатт-часа на протяжении всей жизни энергообъекта — от его проектирования до вывода из эксплуатации. И здесь нужно действовать решительно. К 2042 году потребление электроэнергии в стране вырастет на 20%, и чтобы удовлетворить этот спрос, нам нужно привлечь более 40 трлн рублей в генерацию и 5 трлн в сети. Консервативные подходы здесь не сработают.
Мы не только разрабатываем новый закон, но и выполняем комплексный аудит всей нормативной базы отрасли — законов и подзаконных актов. Эту большую работу мы выполняем вместе с заинтересованными ведомствами, энергетическими компаниями и экспертами с тем расчетом, чтобы с января 2026 года можно было использовать более совершенные инструменты, которые помогут справиться с существующими вызовами.
Наша цель — создать принципиально новую модель развития. Во-первых, это гарантированное льготное финансирование энергостроек через отраслевой институт развития. Во-вторых, создание проектного института — публично-правовой компании, которая возьмет на себя синхронизацию всех видов энергоинфраструктуры, разработку требований к типовым проектным решениям и даже функции единого заказчика для сложных проектов, вроде ГЭС. Рабочее название этого института — "Росэнергопроект".
В конечном счете, вся эта инфраструктурная задача сводится к максимально эффективному использованию времени и денег. Мы убираем лишние согласования, обеспечиваем стройки типовой документацией и финансированием, а также активнее привлекаем к оплате мощности крупных инвесторов, которые в этой мощности заинтересованы.
Это и есть та донастройка механизмов, которая позволит нам уверенно двигаться вперед. Следующий шаг — долгосрочное прогнозирование, формирование отраслевого заказа и поддержка энергомашиностроения.
— На юге России в июле 2026 года должны быть введены в эксплуатацию системы накопителей энергии. Насколько это дорогостоящие проекты?
— Эта технология недешевая, но по уровню капитальных затрат строительство накопителей уже сейчас ниже, чем строительство новой традиционной генерации.
— Вы отмечали необходимость продления механизма дальневосточной надбавки. Какие еще меры прорабатываются?
— Мы рассматриваем целый ряд мер. Среди них — направление дивидендов "Русгидро" на инвестиции в ДФО, увеличение доли продаж электроэнергии ГЭС по рыночным ценам, использование механизма фабрики проектного финансирования и другие.
Одно из предложений — создание инвестиционной надбавки к цене на мощность на оптовом рынке. Однако, по нашему мнению, такая надбавка должна иметь конкретную цель — финансирование новых объектов в изолированных энергосистемах.
— Минэнерго планировало разработать комплексный подход по поддержке гидроэнергетики на Дальнем Востоке. Как скоро можно ожидать решения о строительстве новой крупной ГЭС в регионе?
— Сначала нам нужно оценить возможности самих компаний. Очевидно, что без господдержки реализовать такие проекты им сложно. ГЭС строятся долго, 6-12 лет: чем крупнее станция, тем больше срок.
— Но эти проекты востребованы?
— Решение об их необходимости уже есть. Например, генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года предусматривает строительство семи ГЭС и пяти ГАЭС общей мощностью 7,5 ГВт. Пять гидростанций мощностью более 3 ГВт будут размещены в ДФО. В Приморье также планируется одна гидроаккумулирующая станция мощностью 600 МВт.
— Работы уже идут?
— По этим объектам начаты предпроектные и проектные работы.
— А если говорить про крупные ГЭС, какие были в СССР?
— Шансы на возврат к практике строительства крупных ГЭС, как в СССР, существуют. У нашей страны богатый опыт в гидростроительстве, его нужно сохранить и преумножить.
— Не могу не спросить про майнинг. Какие первые итоги принятых мер по легализации этой деятельности?
— Появление регуляторной базы сделало отрасль более прозрачной. Введенные ограничения позволили снизить потребление в энергосистеме Юго-Восточной Сибири на 320 МВт. Это помогло обеспечить прохождение зимних максимумов нагрузок без ограничений для потребителей. Запрет на майнинг в регионах Северного Кавказа позволяет ежемесячно выявлять незаконное потребление и высвобождать около 50 МВт мощностей.
— Новые геотермальные станции планируются?
— Этот вопрос прорабатывается. "Русгидро" и "Зарубежнефть" реализуют совместный проект по строительству новой Мутновской ГеоЭС-2. Также рассматривается вариант добавления нового бинарного энергоблока мощностью до 16,5 МВт на действующей Мутновской ГеоЭС-1. Сейчас ведутся проектные работы и доразведка месторождения, которые должны завершиться до конца 2027 года. Реализация всего проекта возможна до конца 2029 года. После запуска Мутновской ГеоЭС-2 мы сможем на 40% сократить завоз дорогого углеродного топлива на 172,9 тыс. т условного топлива в год.
— Проекту нужны стимулы?
— Компании сообщают, что для реализации проекта без роста тарифной нагрузки необходимо льготное финансирование, проведение конкурсного отбора ВИЭ на Камчатке и получение статуса резидента ТОР "Камчатка".
— Как вы оцениваете текущую ситуацию с обеспечением топливом? Стоит ли ждать стабилизации цен и роста предложения в октябре-ноябре?
— Для начала поясню, почему вообще сложилась такая ситуация с ценами. В августе на бирже произошел их рост из-за двух основных причин. Во-первых, это сезон плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что сократило объемы производства. Во-вторых, сказался традиционный высокий сезонный спрос.
Кроме того, в этом году на рынок и на поведение покупателей повлияли сообщения о временных остановках на некоторых заводах. Все это вместе спровоцировало ажиотажный спрос и рост биржевых цен. Ситуация взята под контроль. Мы оперативно приняли ряд мер, включая ограничение экспорта и корректировку демпфера. Это помогло остановить рост оптовых цен и стабилизировать ситуацию. Сейчас готовятся и дополнительные меры, чтобы гарантировать достаточное предложение на рынке.
Подчеркну, что правительство России считает своим абсолютным приоритетом полное удовлетворение потребностей граждан и промышленности в топливе и продолжает в ручном режиме вести работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, применяя для этого весь спектр необходимых инструментов.
— То есть в октябре и ноябре ситуация заметно улучшится?
— Осенью спрос традиционно снижается, а на заводах завершаются плановые ремонты. Эти два фактора вместе помогут вернуть баланс на рынке бензина в норму. Объем производства будет существенно превышать потребление. Сформировавшийся избыток топлива, по мере накопления, мы сможем направлять на экспорт.
— Выходит, мы вернемся к экспорту бензина?
— Решение о запрете или разрешении экспорта будет приниматься по ситуации, на основе актуальных данных о динамике запасов.
— Каких цен ожидать на оптовом рынке?
— Благодаря принятым мерам и сезонным факторам, мы ожидаем осенью стабилизации цен на оптовом рынке топлива.
— Есть ли риски, что ситуация с топливным рынком повторится через несколько месяцев?
— Мы считаем, что завершающаяся программа модернизации НПЗ, которая увеличит производство бензина на 4-5 млн т, позволит нарастить запас прочности отрасли и сведет к минимуму риски топливных кризисов в будущем.
— На Дальнем Востоке сложная ситуация с топливом сохраняется. Остаются ли в силе планы по строительству там еще одного НПЗ, о чем просили губернаторы?
— Дальневосточные регионы действительно потребляют больше светлых нефтепродуктов, чем производят. Их потребности покрываются поставками с заводов Сибири, Урала и Поволжья. Сейчас компании прорабатывают несколько проектов новых НПЗ: в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском крае.
— Какие именно проекты изучаются?
— Например, "ННК" рассматривает несколько вариантов для второй очереди Хабаровского НПЗ. Это может быть модернизация действующего завода со строительством новых установок, а также вариант расширения мощностей первичной переработки. Еще один вариант — строительство НПЗ на новой площадке за городом мощностью от 5 до 10 млн т.
— К какому варианту склоняется компания?
— Пока окончательного решения не принято, компания продолжает оценивать все варианты.
— Вы также упоминали проекты в Сахалинской области и Приморском крае.
— Да, в Приморском крае "Роснефть" разрабатывает проект Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК). Он включает строительство НПЗ мощностью 12 млн т нефти в год и нефтехимического комплекса на 3,4 млн т.
По этому проекту уже готова проектная документация и получены положительные заключения госэкспертизы. Однако в условиях текущей макроэконической неопределенности компания отложила дальнейшую работу, так как пока невозможно дать обоснованную оценку долгосрочным инвестициям. Развитие проекта возможно после достижения макроэкономической стабильности.
Что касается Сахалинской области, то там изучается проект завода "Газпрома" по переработке газового конденсата мощностью 4,5 млн т. Сейчас по нему проходит процедура обоснования инвестиций. Ресурсной базой для него может стать проект "Сахалин-3". При этом "Газпром" рассматривает и другие варианты переработки углеводородов в регионе.
— Можно ли уже сказать, что мы выполнили задачу по переориентации поставок с Запада?
— Стратегическая цель по переориентации поставок газа, нефти, нефтепродуктов и угля на Восток и Юг уже выполнена. В 2024 году доля экспорта в страны АТР выросла в полтора раза и превысила 60%. В этом и последующих годах она продолжит рост, особенно после подписания в Китае договоренностей об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" до 44 млрд куб. м газа в год, а также меморандумов о строительстве "Силы Сибири – 2" и газопровода "Союз Восток" через Монголию.
— Как развивается партнерство с Индией? Сохраняется ли динамика?
— Индия остается для нас ключевым партнером. В 2024 году на ее долю пришелся значительный объем нашего экспорта нефти, и в этом году поставки остаются на высоком уровне. Более того, для повышения надежности перевозок мы разрабатываем российско-индийское межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в поставках нефти и нефтепродуктов морским транспортом.
Учитывая планы Индии увеличить долю газа в энергобалансе до 15%, мы готовы предложить им СПГ с действующих и перспективных российских проектов. Кроме того, Индия — крупный потребитель нашего угля. Мы планируем нарастить экспорт угля в страну до 40 млн т к 2035 году.
Активно развивается и сотрудничество с Вьетнамом. Наши компании уже ведут разработку нефтегазовых месторождений на его территории. Мы также видим перспективы в поставках СПГ и создании соответствующей инфраструктуры. Отдельно стоит отметить возобновившийся диалог по сооружению атомной электростанции российского дизайна во Вьетнаме. Сейчас ведется актуализация нормативно-правовой базы по АЭС "Ниньтхуан-1".
— В Минэнерго говорили, что в середине 2025 года можно будет подвести первые итоги адресных мер поддержки угольной отрасли. Какой эффект они оказали?
— Результаты есть, и они уже сказываются на производстве. Несмотря на непростую ситуацию, в первом полугодии 2025 года нам удалось сохранить объем добычи угля на уровне 2024 года — 218,8 млн т. Видим очень хорошую динамику и по экспорту: за первые три квартала нам удалось нарастить его на 5,5%. В целом предприятия продолжают работать и своевременно выплачивать зарплаты. Это говорит о том, что меры поддержки работают.
— Сколько компаний сейчас получают поддержку, в том числе адресную?
— Мы сформировали перечень из более чем 130 угольных компаний. Они уже получили налоговые льготы, которые помогают им сохранить оборотный капитал и поддерживать ликвидность. Также приняты меры по поддержке перевозок угля.
Что касается адресной помощи, то подкомиссия под руководством министра финансов Антона Силуанова рассматривает индивидуальные заявки. Уже изучены заявки 42 предприятий, на рассмотрении находятся еще 8. Около 15 компаний планируют подать документы в ближайшее время.
— Были ли случаи, когда угольные предприятия прекратили работу в условиях кризиса?
— Некоторые предприятия — да, но только те, чья экономическая модель была недостаточно эффективна. При этом их технику и персонал перевели на другие предприятия, где условия лучше — например, меньше транспортное плечо или выше производительность оборудования.
— Насколько необходимо такое внимание углю, когда в России столько нефти, газа…
— Россия не планирует отказываться от угля для энергетики. Как заявил в ходе ВЭФ президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, запасов угля различного класса у нас хватит почти на тысячу лет.
Кроме того, подчеркну, что на текущий момент угольная генерация является наиболее надежной и стабильной. Уголь продолжает оставаться одним из самых низких по стоимости источником энергии, что является важнейшим фактором при формировании цены на электроэнергию.
— Будет ли спрос на такие объемы?
— Я в этом не сомневаюсь. Уголь до сих пор остается основным видом топлива для производства электроэнергии в мире — на его долю приходится 35% генерации. Более того, мировые агентства пересматривают прогнозы потребления угля в сторону увеличения. Мы считаем, что только в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие пять лет будет введено 374 ГВт новых угольных ТЭС. Так что спрос на наш уголь будет, и надолго.
— Хватит ли для этого инвестиций, ведь из-за кризиса их наверняка стало меньше?
— Да, мы действительно видим некоторое снижение инвестиций из-за сокращения прибыли компаний и роста финансовой нагрузки. Высокие кредитные ставки тоже не помогают. Тем не менее, даже при всех сложностях, текущий объем инвестиций превышает показатели 2020-2021 годов и позволяет поддерживать добычу на прежнем уровне.
— Возможна ли консолидация в угольной отрасли для решения этих сложных глобальных задач и экспансии?
— Это очень непростой вопрос. Для ответа на него нужна комплексная оценка, подобная той, что проводилась во время реструктуризации отрасли в 1990-е годы. Только после этого можно будет создать условия для консолидации. Минэнерго уже ведет такую работу, готовя обновленную программу развития угольной отрасли до 2050 года. После ее утверждения мы сможем конкретно говорить о консолидации, в том числе в рамках смещения добычи на Восток.
— Вокруг каких предприятий будет консолидироваться отрасль?
— Ответ очевиден — вокруг крупных компаний. Тех, у кого широкая линейка продукции, добыча в разных регионах, собственные портовые терминалы и вагонные парки, а главное — стабильная финансовая модель.